Я здесь живу...
To be myself is something I do well
Алексей Иванов. «Бронепароходы»
Я читаю немного, меньше, чем в далекой юности, но регулярно, используя для чтения все, что оказывается под рукой: смартфон, e-ink, ноутбук, компьютер. Но ничто не сравнится с типографским запахом новой книги, когда открываешь е§, касаешься плотной бумаги и перелистываешь бесцельно, вспоминая давно забытое ощущение чуда: огромный мир рождается внезапно из монохромных заполненных знаками страниц и захватывает воображение. Мне удивительно иногда, что эта способность жить в параллельной реальности не притупилась с возрастом. И может быть, даже наоборот: все ощущается острее и ярче и мир раскрывается богаче во множестве мелких точно подмеченных и воссозданных деталей, которые раньше проходили мимо, но которые и составляют сущность бытия.
Умение этим наслаждаться приходит со временем, в процессе воспитания вкуса и, хочется верить, приобретения какой-то мудрости, когда уже не торопишься жить побыстрее и заглотить кусок побольше, узнать, чем кончится и что дальше, а находишь радость в том малом прекрасном, что окружает здесь и сейчас.
Правды нет ни у красных, ни у белых, ни у чебаков, ни у рябинников, ни у Троцкого, ни у Колчака. Нет её ни у великого князя, ни у расстреливающего его чекиста, ни у Нобеля, ни у Ротшильда, ни на бакинских нефтепромыслах, ни на камских.
Иван Диодорыч разглядывал Уайта. Эти белогвардейцы, наверное, были хорошими людьми, но их стремление к справедливости по итогу своему ничем не отличалось от большевистской жажды власти.
Зато есть неизменные законы рождения и смерти, любви и ненависти, совести и предательства. Есть необъяснимое милосердие и вечная божья тайна.
-Про бесов, значит, ты всё понял, а про божью тайну — ничего?
-Да почто её понимать-то? — не выдержал Федя. — Она ведь не паровая машина! Её чинить не надо! Коли понимаешь её, значит, отрицаешь!
Мысль эта не нова, и трудно к ней не прийти, если пишешь о Гражданской войне. У Шолохова побеждает голос крови, самый бессознательный и первозданный в человеке. У Пастернака — профессия, потустороннее прибежище подлинного философа. У Алексея Иванова — неистребимая воля к сохранению и продолжению жизни, не своей, но — окружающих, не рода, но — бытия, не любой ценой, но — ценой любых, самых невероятных усилий.
-Семён, вы в бога верите?
-Истинный крест! — Сенька вытащил из ворота крестик и поцеловал.
-А в советскую власть?
-Наша эта власть, народная!
-А я не верю ни в бога, ни в коммунизм. Не приставайте ко мне.
Прибившиеся к капитану дяде Ване Нерехтину, его потрёпанному буксиру «Лёвшино» и его команде люди оказываются накрепко связанными этой волей друг с другом, и она становится сильнее родственных уз, сильнее смерти, заставляет до последнего вгрызаться в палубу маленького покорёженного в боях буксира, как в последний спасительный клочок тверди под ногами.
Матросы. Кочегары и машинисты повалились с нар. В каждом накиплю гнев — непонятно на кого, но бить можно было только ближнего.
<…>
Иван Диодорович неподвижно лежал на койке. Разумеется, он слышал шум драки — но слышал и дальние перекаты грозы, и даже тихий плеск волн под бортом. Он не хотел ни во что вмешиваться. Да и что нужно объяснять про голод в городе и про безжалостно расстрелянных крестьян? Всё тут понятно. Спорить не о чем. А кто продолжает спорить, тот умножает бедствия. И пускай спорщики расквасят друг другу морды. Это расплата за то, что с них со всех спрашивалось, а они даже не попытались подумать и ответить.
Эти люди, будь то заядлый и непутёвый шулер Яшка Перчаткин, потомственный лоцман Федя Панафидин, грозный хранитель братьев Нобель Хамзат Мамедов, Алёшка и Катя Якутовы, несостоявшийся большевик Сенька Рябухин, горе-матросик Егорка Минеев, арфистка Стеша, даже временный постоялец военлёт Свинарёв, отвоёвывают своё право на жизнь у врагов, которые, как черти, лезут и лезут на борт многострадального буксира, атакуют то с левого берега, то с правого, то с красной стороны, то с белой, так и норовят уничтожить и без того зыбкое будущее.
Китайцы, мадьяры и чекисты врываются в подворья, лезут в подклеены и погреба, распахивают двери амбаров, волокут мешки с зерном, выкатывают бочки. Если хозяева сопротивляются, их бьют. Может, в селе и нет никаких ижевских повстанцев, но непременно кто-нибудь из местных в ярости схватился за обрез — и разгорелась бойня. Мужик ломанулся в избу — выстрел ему в спину; баба заслонила вход в кладовую — штык ей в живот; старик вцепился в локоть бойца — прикладом хрычу в зубы; мальчонка в ужасе помчался наутёк — пуля догонит: небось, за подмогой побежал, гадёныш.
<…>
А убитые мужики стояли и не падали, не успев освоиться с окатившей их смертью.
В своём стремлении обрести его и сохранить среди пожаров и костров Гражданской войны обитатели «Лёвшина» не теряют способности жалеть, любить, прощать, бороться до конца и жертвовать собой. Это победа духа над инстинктом, может быть, идеалистическая и невозможная, желанная, но недостижимая, но совершенно необходимая как отблеск надежды, как голос во мраке, как утешение в тёмные времена.
Он и вправду думал что нет ничего страшного, если появится младенец. Война?.. Дак что война? Из-за неё нельзя нарушать предустановленный свыше порядок жизни.
Наверное, аллегория ковчега слишком явная и прямолинейная и поэтому кажется чересчур пафосной, но она стилистически соответствует голливудскому по динамике, темпу, напряжению финалу, достойному лучших блокбастеров. Уникальным последний бой делает то, что в этом боевике нет спецэффектов, каскадёров, грохота, вспышек — он разворачивается, существуя в литературе, в слове, то есть, по сути, не существуя вовсе.
Люди будут воевать всегда! Нет другого способа делать историю! И самый надёжный инструмент — страх смерти! На бесхвостых обезьян он действует сильнее, чем жажда еды, самки или славы! Когда обезьяны знают, что смерь впереди можно перебороть, а смерть позади неизбежна, тогда и начинают сражаться по-настоящему! Бой должен быть спасением, чтобы орда атаковала врага от ужаса! И тот, кто желает своим солдатам победы, должен без всяких колебаний устроить им этот ужас в тылу во имя их же собственных жизней!
Алексей Иванов — безусловный мастер таких сцен; их композиция строго выверена, а эмоциональная окраска точно рассчитана.
Еще Иванов запросто вплетает в художественное повествование, пусть и с историческим уклоном, вполне реальных, подчас скандально известных персонажей и при этом не занимается сочинительством и фантазёрством, а использует подтверждённые факты биографий, бесшовно интегрируя их в пространство романов и не боясь попасть в переделку.
Так в «Бронепароходах» появляются Троцкий, Раскольников, Старк,
-Я знаю что после моего отъезда из Петрограда моб жену большевики посадили в «Кресты», — спокойно сообщил он. — У меня малолетние дети — сын и дочь, и я не имею ни малейшего представления, где они сейчас находятся. Моё поражение под Самарой, а лучше — моя гибель стали бы спасением для моей семьи и для моей души. Так что мне тоже нужно в Самару. Но я поведу флотилию в Уфу. Для этого у меня действительно есть весомый личный мотив. Он называется «родина».
Николай Марков, Лариса Рейснер, Всеволод Вишневский, Ганька Мясников и Николай Жужгов, и — великий князь Михаил Александрович. Последняя фигура — признак особого бесстрашия, особой литераторской храбрости, ведь Михаил Романов не просто проходит по касательной к разворачивающемуся действию, как прозрачная тень Гафиза-Николая Гумилёва, а предстаёт человеком с недвусмысленно определённой автором системой ценностей. Это вызов! И Катя Якутова совершенно сознательно и без сожаления обрекает великого князя на гибель, миновавшую его в эпизоде расстрела.
-Послушай, Катюша… — медленно сказал Нерехтин. — Твой батюшка был слишком смелый. Мой сын — слишком честный. А моя жена слишком сильно любила. Поэтому они умерли.
-К чему вы о них заговорили, дядя Ваня? — удивилась Катя.
-Я поумней тебя, Катюша. И я тебя узнал. В тебе — все три перебора.
В «Бронепароходах» есть своё абсолютное, непримиримое и при этом не лишенное очарования зло — Роман Горецкий. Идеальный антигерой, яркий, решительный, умный, привлекательный, бескомпромиссный (он пойдёт на всё ради достижения цели, он идет до конца) — сущее воплощение Дьявола на Земле. Не может устоять перед его обаянием истосковавшаяся по мужскому вниманию вдова пароходчика Стахеева Ксения Алексеевна, не может — истосковавшаяся по мужскому плечу, обессилевшая от невзгод и борющаяся за будущего ребёнка Катя Якутова. И нельзя сказать, что Романа не ужасает чудовищная расправа над Стахеевыми, и он совершенно искренне спасает Алёшку, вытаскивая его полуживого с арестантской баржи: он старается быть благородным, он знает, как должно поступать.
Мерно работала машина, пароход ровно двигался по стрежню, и Маркин стоял в рубке возле штурвального. Только что он прикончили парня и бабу — а ничего в мире не изменилось. Не омрачилось синее небо, по-прежнему валил дым из трубы над кормой метались чайки, увязавшиеся за судном.
Маркин думал: как всё это, оказывается, просто. Бах, бах, бах — и он уже не виноват в потере нефтекаравана. Команда ему подчиняется. Лялька сидит у себя в салоне и не высовывается. И грех не жжёт, не гложет душу — надо только не вспоминать, как убитые упали на пол.
Горецкий не предстаёт законченным мерзавцем и вселенским злодеем, но — становится им, не в силах преодолеть искушения бесхозным золотом Госбанка и большими деньгами нефтедобычи.
There will be blood.
Причиной резни называли и верю, и нацию, и общественный класс, но Мамедов знал, что главная предельная причина — нефть.
Не разыграйся Гражданская война, не случись в его жизни Хамзата Мамедова, Роман остался бы обходительным и элегантным помощником капитана в белом кителе, мог бы дослужиться до капитана, жениться на Кате Якутовой по-домашнему обстоятельно и никогда не узнать, на что он способен ради будущего, американского, сингапурского, какого угодно, но — непременно выдающегося. Только Фортуна не благоволит этому демону, и рушится на «Гордый» заминированный мост. Или это Никола Якорник сберегает «Лёвшино» и его многострадальную команду?.. или Бог?
Я, наверное, в жизни не видела вблизи парохода, не говоря о его машинном отделении, не знакома с терминологией волжских речников, не разбираюсь в законах динамики, но с первой же строки детали, процессы, движения настолько конкретны и представимы, что в события столетней давности на Волге и Каме ныряешь сразу и насовсем. Это фирменная фишка Алексея Иванова — с места в карьер погрузить читателя в мир осязаемых предметов, запахов, скрежетов, не мучая туманными абстракциями места и времени действия и косноязычным изложением сюжета.
Божья колесница с дороги не сворачивает, и весна не замечала истории.
Драматургия его романов представляет собой жесткую конструкцию, подчиненную рационально выверенной структуре, нигде не проваливается, благодаря чему держит в напряжении от начала и до конца; его описания предельно функциональны — они заставляют тотчас поверить в действительность происходящего, идет ли речь о колесе парохода, паровом котле, вышках на буровой или пулемете. Это кинематографическое внимание к вещам делает романы Алексея Иванова зрелищными и правдоподобными: по приёмам и средствам выразительности, концепциям и подходам они в принципе крайне близки именно к искусству кино и этим довольно новым для русской литературы явлением несомненно интригуют.
Больше на Я здесь живу...
Подпишитесь, чтобы получать последние записи по электронной почте.
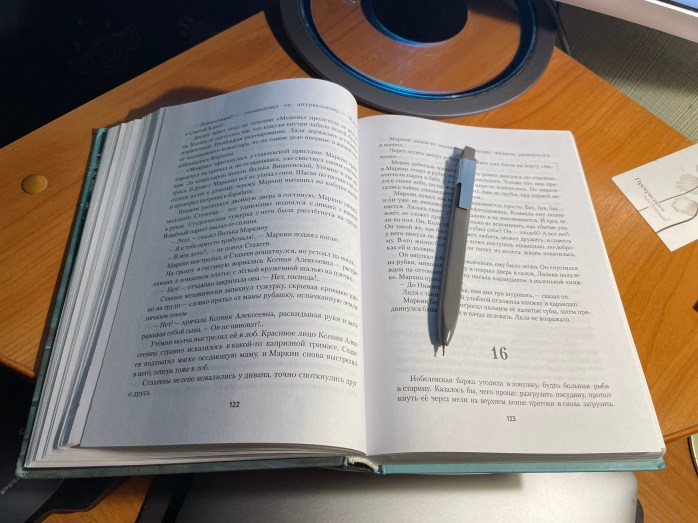
Недавние комментарии